Фридрих ВАЙСМАНН
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН И ВЕНСКИЙ КРУЖОК 1
Среда, 18 декабря 1929 года (у Шлика)
солипсизм
Раньше я верил, что есть повседневный язык, на котором все мы обычно изъясняемся, и есть некий первичный язык, который выражает то, что мы действительно знаем, т. е. феномены. Я говорил также о первой и о второй системах. Сейчас я хотел бы пояснить, почему я более не придерживаюсь этого мнения.
Я полагаю, что, по существу, мы обладаем лишь одним языком, и это обыденный язык. Мы не только не нуждаемся в том, чтобы изобретать новый язык или конституировать какую-либо символику, но повседневный язык уже является языком при условии, что мы освободим его от неясностей, которые в нем заложены.
Наш язык уже пребывает в полном порядке, стбит только ясно понять, что он символизирует. Другие, отличные от обыденного, языки также ценны, поскольку они показывают нам, что между ними имеется нечто общее. Для определенной цели, например описания условий вывода, искусственная ымволика может быть чрезвычайно полезной. Фреге, Пеано и Рассел при построении символической логики всегда имели ее в виду фактически лишь для использования в математике и не помышляли об изображении действительного положения дел.
Эти логики думали так: <Если все связи разорваны, если нельзя применить логические формы к действительности, то что ж, нам еще остается математика>. Сегодня мы видим, что и с математикой ничего не выходит, что и здесь мы не встретим логических предложений.
Такой символ, как <fх>, очень хорош, когда речь идет о том, чтобы объяснять простые логические отношения. Этот символ берет свое начало в тех случаях, когда <f> обозначает предикат, а <х> переменное существительное. Но едва лишь берутся рассматривать действительные положения дел, замечают, что эта символика оказывается в крайне невыгодном положении в сравнении с нашим реальным языком. Конечно, было бы абсолютно неверно говорить только об одной субъектно-предикатной форме. На самом деле, она не одна их очень много. Ибо если она одна, тогда все прилагательные и все существительные должны быть взаимозаменяемы. Ведь все взаимозаменяемые слова принадлежат к одному классу 2. Однако уже обыденный язык показывает, что это не так. Кажется, я могу сказать: <Стул коричневый> и <Поверхность стола коричневая>. Но если я заменю <коричневый> на <тяжелый>, то смогу высказать только первое предложение, но никак не второе. Это доказывает, что слово <коричневый> также обладает двумя различными значениями.
<Правый> выглядит на первый взгляд так же, как и другие прилагательные, например, <сладкий>. <Правый-левый> соответствует <сладкий-горький>.
Я могу сказать <правее> точно так же, как и <слаще>.
Но я могу сказать лишь: <... Лежит правее ...>, но не: <... Лежит слаще ...>. Следовательно, синтаксис действительно различен 3.
Если же я рассмотрю не только предложение, в котором встречается определенное слово, но все возможные предложения, то это полностью задаст синтаксис этого слова гораздо полнее, чем символ <fх>.
Странно же, право, что в нашем языке имеется нечто, что я мог бы сравнить с вращающимся вхолостую колесом в машине. И сейчас я поясню, что подразумеваю под этим.
Смыслом предложения является его верификация
Когда я, например, говорю: <Там на сундуке лежит книга>, что я предпринимаю, чтобы это верифицировать? Достаточно ли, если я брошу на нее взгляд, или если рассмотрю ее с разных сторон, или если возьму ее в руки, ощупаю, раскрою, перелистаю и т. д.? На этот счет есть два мнения. Первое таково: как бы я ни пытался, я никогда не смогу полностью верифицировать предложение. Предложение всегда остается открытым, словно черный ход. Что бы мы ни делали, мы никогда не уверены, что не ошиблись.
Другое мнение, и его я хотел бы отстаивать, заключается в следующем: нет, если я никогда не смогу полностью верифицировать смысл предложения, тогда я и не могу ничего под предложением подразумевать. Тогда предложение вовсе ничего не означает.
Для того чтобы установить смысл предложения, я заранее должен знать вполне определенный прием, устанавливающий когда предложение должно считаться верифицированным. Повседневный язык для этого слишком шаток гораздо в большей степени, чем язык научный. Здесь существует известная свобода, и это означает не что иное, как символы нашего повседневного языка не могут быть определены недвусмысленно.
<...>
Верификация порой очень трудна: например, <Зейтц был избран бургомистром> 4. Как, собственно, я должен приступить к верификации этого предложения? Состоит ли правильный метод в том, что я пойду и наведу справки? Или опрошу людей, которые при этом присутствовали? Но один видел это из первых рядов, другой из задних. Или я должен прочитать об этом в газете?
Что более всего чуждо философическому наблюдателю в нашем языке, так это различие между бытием и видимостью.
Колеса на холостом ходу
Когда я поворачиваюсь, печка пропадает. (Вещи не существуют в перерывах восприятия.) Если <существование> берется в эмпирическом (не в метафизическом) смысле, то это высказывание колесо на холостом ходу. Наш язык упорядочивается, как только мы понимаем его синтаксис и осознаем, что колеса крутятся на холостом ходу.
<Я могу пишь вспоминать>. Как если бы был еще и другой путь, и воспоминание не было бы, более того, единственным источником, из которого мы черпаем.
Воспоминание обозначают как картину. С оригиналом я могу сравнить картину, но не воспоминание. Ведь переживания прошедшего не то, что предметы в комнате, которые тут, рядом: хотя сейчас я их и не вижу, но я могу подойти <к ним>. А могу ли я прийти к прошедшему?
<Я не могу чувствовать Вашу боль>
Что подчиняется моей воле? Каковы части моего тела? это относится к опыту. К опыту относится и то, что я, например, никогда не имел двух тел. Но бывает ли такой опыт, что я не могу чувствовать Вашу боль? Нет!
<Я не могу чувствовать боль в Вашем зубе>.
<Я не могу чувствовать Вашу зубную боль>
Первое предложение имеет смысл. Оно выражает эмпирическое знание. На вопрос <Где болит?>, я укажу на Ваш зуб. Если дотронуться до Вашего зуба, я вздрогну. Короче, это моя боль, и она будет моей до тех пор, пока вы продолжаете выказывать симптомы боли в прежнем месте, стало быть, вздрагиваете так же, как и я, если на зуб надавить,
Второе предложение чистая бессмыслица. Подобные предложения запрещаются синтаксисом.
Слово <я> принадлежит к тем словам, которые можно элиминировать из языка. Очень важно владеть многими языками; тогда видно, что общего для всех этих языков, и что репродуцирует эту общность.
Можно сконструировать много разных языков, в которых средоточием являлся бы всякий раз другой человек. Представьте себе как-нибудь, будто Вы деспот на Востоке. Все люди принуждены говорить на языке, в котором центром являетесь Вы. Если я веду речь на этом языке, то я мог бы сказать: у Витгенштейна зубная боль. Но Вайсманн ведет себя так же, как Витгенштейн, когда у того зубная боль. В языке, в котором Вы являетесь средоточием, это означало бы прямо противоположное: у Вайсманна зубная боль, Витгенштейн ведет себя так же, как Вайсманн, когда у того зубная боль.
Все эти языки могут быть переведены друг в друга. Только общность что-то отражает.
И все же странно, что был выделен один из них, а именно тот, на котором я в некоторой степени могу сказать, что я чувствую действительную боль.
Если я есть <А> 5, тогда, пожалуй, я могу сказать: <В ведет себя так же, как А, когда тот чувствует боль>, но также и <А ведет себя так же, как В, когда тот чувствует боль> От этих языков отличается один, а именно, язык, в котором я являюсь средоточием. Особое положение этого языка состоит в его употреблении. Он невыразим.
<...>
<ЯЗЫК И МИР>
Изображение
Звуковая дорожка
Звуковое кино
Я хотел бы использовать старое сравнение: <Laterna magica>.
Не звуковая дорожка сопровождает фильм, но музыка.
Звуковая дорожка сопровождает пленку с изображением.
Музыка сопровождает фильм.
Пленка с изображением | Звуковая дорожка | Музыка | Фильм
? | ? | Язык | Мир
Язык сопровождает мир.
<...>
Среда, 25 декабря 1929 (у Шлика)
ВРЕМЯ
Все трудности физики проистекают от того, что высказывания физики смешиваются с правилами грамматики. <Время> имеет два различных значения:
а) время воспоминания;
b) время физики.
Там, где имеются различные верификации, имеются и различные значения. Если я могу верифицировать временнoе сообщение, например то-то и то-то имело место раньше того-то и того-то, только с помощью памяти, то в этом случае <время> должно иметь иное значение, чем там, где я могу верифицировать такое сообщение также и другими средствами, например с помощью того, что справлюсь в документе или спрошу кого-нибудь и т. д. (Так же обстоят дела и с <представлением>. Обычно представление называют <картиной> предмета, будто бы наряду с представлением есть еще какой-нибудь путь достичь предмета. Но представление имеет иное значение, когда я понимаю его как картину предмета, который могу верифицировать еще и другим способом, и опять-таки иное, когда я рассматриваю предмет как логическую конструкцию представлений.)
Точно так же следует различать воспоминание как первоисточник и воспоминание, которое можно верифицировать каким-нибудь другим способом.
Мы говорим: <Я обладаю лишь смутным воспоминанием>. Что означает здесь это <лишь>? Могу ли я сравнить воспоминание с предметом так, как я сравниваю фотографию с оригиналом? Имеется ли, кроме воспоминания, еще и какой-нибудь другой путь, чтобы прийти к положению дел?
Сравнение с фильмом: отдельные картины с различной резкостью. Мы можем отсортировать их по резкости. Стертость картины я могу назвать <временем>.
Теперь является время внешним или внутренним?
Внешнее - внутреннее
Во всех вопросах о внешнем и внутреннем царит чудовищная путаница. Это обусловлено тем, что я могу описать какое-нибудь отдельное положение дел различным образом.
Отношение, которое говорит <как?>, является внешним. Оно выражается в предложении.
Внутреннее: Мы имеем два предложения, между которыми существует формальное отношение.
Теперь проясним, как я мог бы схожие положения дел выразить то посредством одного предложения, то посредством двух, между которыми существует внутреннее соотношение.
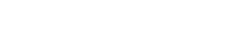
Я могу сказать: а длиной 2 м, b длиной 1,5 м. Тогда окажется, что а длиннее, чем b.
Что я не могу сказать, так это то, что 2 > 1,5. Это внутреннее. Но я могу также сказать: а примерно на 0,5 м длиннее, чем b. Тогда я, очевидно, имею внешнее отношение; поскольку ведь также легко могло бы быть помыслено, что отрезок а короче, чем отрезок b. Скажем еще яснее: об этих двух определенных отрезках, разумеется, нельзя помыслить, что один длиннее или короче другого. Но если я, например, скажу, что расположенный слева отрезок длиннее, чем расположенный справа, тогда соотношение <длиннее, чем> фактически сообщит мне нечто оно будет внутренним. Это, очевидно, связано с тем, что теперь мы имеем лишь неполную картину положения дел. Если мы опишем положение дел полностью, то внешнее отношение исчезнет. Однако мы не имеем права считать, что тогда вообще останется какое-нибудь отношение. За исключением внутреннего отношения между формами, которое имеется всегда, никакое отношение не должно проявляться в описании, и это доказывает, что на самом деле форма отношения не является чем-то существенным: она не отображает.
Пожалуй, я могу сказать: <Один костюм темнее, чем другой>.
Но я не могу сказать: <Один цвет темнее, чем другой>. Поскольку это принадлежит к сущности цвета; ведь без этого он не может быть помыслен.
Дела всегда обстоят так: в том-то и том-то месте пространства цвет темнее, чем в этом. Как только я ввожу пространство, я получаю внешние отношения; но между чистыми цветовыми качествами могут существовать лишь внутренние отношения. Ведь я вовсе не располагаю никаким иным средством охарактеризовать цвет, как только через его качество.
Применительно ко времени: Цезарь до Августа внешнее. Исторический факт мыслим также и иначе.
Но если я могу верифицировать то, что было раньше, лишь через воспоминание, то отношение <раньше, чем> является внутренним.
<...>
ФИЗИКАИ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
Физика стремится установить закономерности; она не касается того, что возможно.
Поэтому физика, даже на самой высокой стадии своего развития, не дает описания структуры феноменологического положения дел. В феноменологии речь идет всегда о возможности, т. е. о смысле, а не об истине или лжи. Физика как будто бы выхватывает из континуума отдельные места и прикладывает их к последовательному ряду законов. Ни о чем другом она и не помышляет.
![]()
<...>
СИСТЕМА ЦВЕТОВ
Однажды я написал: <Предложение налагается на действительность как масштаб. К измеряемому предмету прикасаются только крайние метки измерительной шкалы> 6. Сейчас я предпочел бы сказать так: <Система предложений прикладывается к действительности как масштаб>. Под этим я подразумеваю следующее: если я налагаю масштаб на пространственный предмет, то в одно и то же время я налагаю все деления шкалы.
Налагается не отдельное деление, но вся шкала. Если я знаю, что предмет достает до отметки 10, то мне непосредственно известно также, что он не достает до отметки 11, 12 и так далее. Высказывания, которые описывают мне длину предмета, образуют систему, систему предложений. Вся эта система предложений в целом сравнима с действительностью, но не единичное предложение. Когда я говорю, например: <такая-то и такая-то точка в поле зрения синяя>, я знаю не только это, но также и то, что эта точка не зеленая, не красная, не желтая и т. д. Я применил за один раз всю цветовую шкалу. Это является также причиной того, почему точка не может в одно и то же время быть разных цветов. Ведь если я налагаю на действительность систему предложений, то тем самым точно как в случае чего-то пространственного уже сказано, что всякий раз может существовать только одно положение дел, и никогда несколько.
При написании моей работы 7 все это было мне неизвестно; в то время я полагал, что все выводы имеют форму тавтологии. Тогда я не видел еще, что вывод может иметь и такую форму: <Некий человек высотой 2 м, следовательно, он высотой не 3 м>. Это связано с тем, что я верил, будто элементарные предложения должны быть независимы; из существования какого-либо одного положения дел нельзя заключить о не-существовании другого 8. Но если моя нынешняя точка зрения на систему предложений верна, то даже правило, что из существования одного положения дел может быть выведено не-существование всех остальных, описывается через систему предложений.
Всякое ли предложение располагается в системе?
Проф. Шлик поднимает вопрос, откуда я могу знать, что один синтаксис верен, а другой нет. Нельзя ли несколько глубже обосновать, почему <~х> может быть истинным только для значения <х>?
Как эмпирическое познание относится к синтаксису?
Витгенштейн отвечает, что имеется опыт <что> и опыт <как>.
Шлик. Как соотносится, например, с так называемым законом относительности в психологии (Гамильтон) 9 то, что мы приходим к осознанию ощущения только через контраст? Мы не слышим гармонию сфер именно потому, что она слышна нам постоянно.
Витгенштейн. Здесь мы вновь должны сделать различение. Что значит: мы слышим гармонию сфер? Если здесь подразумевается, что это может быть верифицировано также и иным способом, чем через слышание, то это предложение имеет не феноменологическое, но другое, быть может, физикалистское значение (колебание воздуха). Но если под этим понимается нечто, что можно верифицировать только через слышание, то говорят: <мы должны нечто слышать, но мы этого не слышим>, и это предложение теперь никоим образом не может стать верифицированным и, следовательно, оно не имеет смысла. Колесо на холостом ходу.
<Красный мир 1>
Шлик: Вы говорите, что цвета образуют систему. Имеется ли здесь в виду нечто логическое или нечто эмпирическое? Что было бы, например, если бы кто-нибудь всю свою жизнь прожил в красной комнате и мог видеть только красное? Или если бы кто-нибудь вообще имел в поле своего зрения лишь равномерно красное? Мог бы он тогда сказать: <я вижу только красное>; но ведь должны же быть и другие цвета?
Витгенштейн. Если кто-то никогда не выходил из своей комнаты, то он все же знает, что пространство простирается и дальше, т. е., что существует возможность выйти из комнаты (как если бы она имела алмазные стены). Следовательно, это не является опытом. Это а рriori заключено в синтаксисе пространства.
Имеет ли смысл вопрос как много цветов должен узнать некто, чтобы знать о системе цветов? Нет! (Замечу мимоходом: мыслить цвет, не значит: галлюцинировать цвет.) Здесь есть две возможности:
а) либо его синтаксис такой же, как наш: красный, краснее, светло-красный, оранжевый и т. д. Тогда он имеет всю нашу систему цветов;
b) либо его синтаксис не такой. Тогда он вообще не знает цветов в нашем смысле. Поскольку, если знак имеет одно и то же значение, он должен иметь один и тот же синтаксис ~~. Это зависит не от множества видимых цветов, но от синтаксиса. (Так же, как это не зависит от <количества пространства>.)
<...>
АНТИ-ГУССЕРЛЬ
Шлик: Что можно возразить философу, который полагает, что высказывания феноменологии являются синтетическими суждениями а рriori?
Витгенштейн. Когда я говорю: <У меня не болит желудок>, то это уже предполагает возможность наличия боли в желудке. Мое нынешнее состояние и состояние при наличии боли в желудке лежат, так сказать, в одном и том же логическом пространстве. (Так, как если бы я сказал: <У меня нет денег>. Это высказывание уже предполагает ту возможность, что деньги у меня появятся. Оно указывает на точку отсчета денежного пространства.) Негативное предложение предполагает позитивное, и наоборот.
Возьмем теперь такое высказывание: <Предмет не является одновременно красным и зеленым>. Только ли то я хочу сказать этим, что не видел до сих пор такого предмета? Очевидно, нет. Думаю, этим я хочу сказать вот что: <Я не могу увидеть такой предмет>, <Красное и зеленое не могут находиться в одном и том же месте>. Ну а теперь я спрошу: <Что означает здесь слово "мочь"?> Слово <мочь>, очевидно, является грамматическим (логическим) понятием, а не вещественным.
Закон же, высказывание <Предмет не может быть красным и зеленым> будет синтетическим суждением, а слова <не может> означают логическую невозможность. Поскольку теперь предложение оказалось отрицанием своего отрицания, это вновь должно давать предложение: <Предмет может быть красным и зеленым>. Равным образом является синтетическим и это предложение. В качестве синтетического предложения оно имеет смысл, и это означает, что изложенное в нем положение дел может существовать. Следовательно, если <не может> означает логическую невозможность, то мы приходим к выводу, что невозможность все же возможна.
Здесь Гуссерлю остается только один выход: заявить, что имеется еще одна, третья, возможность. Но против этого я буду возражать: ведь слова можно выдумать, но под ними я ничего не смогу подразумевать.
<...>
Понедельник, 30 декабря 1929 (у Шлика)
К ХАЙДЕГГЕРУ
Пожалуй, я могу представить, что имеет в виду Хайдеггер под бытием и страхом. Человек имеет склонность атаковать границы языка. Подумайте, к примеру, об удивлении, что нечто существует. Удивление может не выражаться в форме вопросах оно вовсе не имеет никакого ответа. Все, что мы в состоянии сказать, а рriori может быть только бессмыслицей. Несмотря на это мы атакуем границы языка 11. Киркегор также видел эту атаку и даже очень похоже обозначил ее (как атаку на парадоксы). Этой атакой на границы языка является этика. Я считаю безусловно важным, что всей этой болтовне об этике имеется уи познание, имеются ли ценности, можно ли определить добро, еtс. приходит конец. В этике всегда пытаются сказать нечто, что не имеет отношения к сущности вещей и никогда не сможет иметь к ним отношение. А рriori достоверно: то, что всякий раз выдают за дефиницию добра, всегда лишь недоразумение; то подлинное, что полагают имеющим место в действительности, берет начало в выражении (Мур) 12. Но тенденция, атака, указывает на нечто. Это знал уже св. Августин, когда сказал: <Что ты, скотина, ты не хочешь молоть чепуху? Скажи хоть чепуху, сойдет!> 13
<...>
Воскресенье, 5 января 1930 (у Шлика)
ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Имеет ли негативное предложение меньше смысла, чем предложение позитивное? И да, и нет. Да, когда подразумевается следующее: <Если я могу на основании р сделать заключение о д, но не на основании д заключение о р, то д имеет меньше смысла, чем р> Когда я говорю: <Азалия красная> и <Азалия не синяя>, то из первого предложения я могу сделать заключение о втором, но не наоборот. В этом отношении можно сказать, что негативное предложение имеет меньше смысла, чем позитивное.
Нет, когда речь идет о следующем (что мне, по сути дела, ближе к сердцу): негативное предложение придает действительности то же самое многообразие, что и позитивное предложение. Когда я говорю: <У меня не болит желудок>, я придаю действительности то же самое многообразие, как если бы я сказал <У меня болит желудок>. Так как когда я говорю: <У меня не болит желудок>, в этом предложении я уже предполагаю существование позитивного предложения, я предполагаю возможность боли в желудке, и мое предложение задает определенное место в пространстве желудочных болей. Это вовсе не так, что мое нынешнее состояние не имеет ни малейшего отношения к болям в желудке. [Если я говорю: <Это имеет ноль градусов>, то тем самым характеризую точку начала координат температурного пространства.] Когда я говорю: <У меня не болит желудок>, то я как бы говорю: <Я нахожу себя в точке начала координат пространства желудочных болей>. Но предложение уже предполагает все логическое пространство.
[Равным образом предложение: <У этих двух тел отсутствует какая-либо удаленность друг от друга> имеет тот же вид, что и предложение <у двух этих тел такая-то и такая-то удаленность друг от друга>. В обоих случаях одно и то же многообразие.]
Вайсманн: Негативное предложение дает действительности больше сйободного пространства, чем позитивное. Если, например, я говорю: <Азалия не синяя>, то я еще не знаю, какого она цвета.
Витгенштейн. Конечно. В этом смысле негативное предложение говорит меньше, чем позитивное. Однажды я написал: <Я понимаю смысл предложения, если я знаю, что происходит, когда предложение истинно и когда оно ложно> 14 15 . Этим я хотел сказать: если я знаю, когда оно истинно, то одновременно я знаю и то, когда оно ложно. Если я говорю: <Азалия не синяя>, мне будет известно также и то, когда она окажется синей. Чтобы узнать, что она не является синей, я должен сравнить ее с действительностью.
Вайсманн. Вы использовали слово <сравнить>. Но если я сравню предложение с действительностью, то узнаю, что азалия красного цвета, и отсюда сделаю вывод, что она не является ни синей, ни зеленой, ни желтой. То, что я вижу, всегда уже есть некоторое положение дел. Однако, я никогда не увижу, что азалия не синяя.
Витгенштейн. Я вижу не красное, но я вижу, что азалия красная. В этом смысле я вижу, также, что она не является синей. Вывод не связан только с видимым, но он уже известен мне непосредственно при видении.
Позитивное и негативное предложения стоят на одной ступени. Когда я прикладываю к чему-то складной метр, я знаю не только то, какой длины это что-то, но и то, какой длиной это что-то не обладает. Если я верифицирую позитивное предложение, то тем самым я фальсифицирую негативное предложение. В то мгновение, когда я узнаю, что азалия красного цвета, я узнаю также, что она не синяя. Одно и другое неразлучны. Условия истинности предложения предполагают условия для его ложности,и наоборот.
<...>
ВОСПОМИНАНИЕ О СИНЕМ ЦВЕТЕ
Природа нашей памяти в высшей степени поразительна. Обычно представляют себе дело так, что мы имеем <(проносим) перед своим мысленным взором> тот или иной вид воспроизведенной в памяти картины виденного раньше цвета и что эта воспроизведенная в памяти картина сравнивается с цветом, который я вижу сейчас. Полагают, что тут речь идет о сравнении. Все совсем не так. Представьте себе следующее. Вы видели совершенно определенный <оттенок> синего цвета, скажем, лазоревый, и теперь я показываю Вам различные образцы синего. Вы говорите: <Нет, нет, это был не он, это тоже не он, и этот тоже. Вот это он!> Если это происходит так, как будто бы Вы имеете в своей голове разные клавиши, а я пробую их, и когда я нажимаю на определенную клавишу, она звучит. А происходит ли повторное узнавание цвета раньше себя самого? Звучит ли оно, так сказать, во мне, щелкает ли что-нибудь при взгляде на правильный цвет? Нет! Однако я знаю о каком-нибудь определенном оттенке синего не только то, что это не тот цвет, но знаю также и то, в каком направлении я должен подыскивать цвет, чтобы добраться до нужного 16. Это значит, что мне известен путь, как отыскать цвет. Я могу как-то руководить Вами, когда Вы смешиваете цвета, указывая: больше белого, еще больше белого, теперь слишком много, немного синего и так далее, т. е. данный цвет уже предполагает целую систему цветов. Повторное узнавание цвета не является простым сравнением, хотя кому-то это и может показаться похожим на сравнение. Повторное узнавание выглядит так же, как сравнение, но не является им 17.
Кстати: если во время игры Вы ищете спрятанную иголку, то, собственно говоря, Вы ищете не в пространстве комнаты, так как для этого у Вас нет никакого метода поиска, но в логическом пространстве, которое я создаю с помощью слов <холодно>, <тепло>, <горячо>. Искать можно лишь там, где есть метод поиска.
<...>
<КРАСНЫЙ МИР II> 18
Я вновь возвращаюсь к вопросу проф. Шлика, что было бы, если бы мне был известен лишь красный цвет. Об этом можно сказать следующее: если все, что я вижу, красного цвета и если бы я мог это описать, то я должен был бы иметь также возможность образовать предложение о том, что это не является красным. А это уже предполагает возможность наличия других цветов. Или же красное является чем-то, что я не могу описать, тогда у меня нет никакого предложения, и тогда я даже не могу ничего отрицать. В мире, в котором красное, так сказать, играет ту же роль, что и время в нашем мире, не может быть никаких высказываний формы: <Все красное>, или: <Все, что я вижу, красное>.
Итак: поскольку положение дел налицо, оно может быть описано, и тогда красный цвет предполагает систему цветов. Или же <красный> означает нечто совершенно иное, и тогда не имеет смысла называть это цветом. В таком случае об этом даже нельзя говорить.
<...>
ДОКЛАД ОБ ЭТИКЕ
Выражения в этике имеют двойное значение: психологическое, о котором можно говорить, и непсихологическое: <хороший теннисист>, <хорошо>. Разными выражениями мы всегда обозначаем одно и то же.
Удивимся факту наличия мира. Любая попытка это выразить ведет к бессмыслице.
У человека есть намерение атаковать границы языка. Эта атака указывает на этику. Все что я описываю, есть в мире. В полном описании мира никогда не встречаются предложения этики, даже если я описываю убийцу. Этическое не есть положение дел.
<...>
22 марта 1930 (у Шлика)
<ВЕРИФИКАЦИЯ И НЕПОСРЕДСТВЕННО ДАННОЕ>
Как я верифицирую предложение: <Это желтое>?
Прежде всего, ясно: <это>, которое является желтым, я должен быть способен узнать вновь, даже если оно станет красным. (Если бы <это> и <желтое> образовывали единство, то они могли бы быть представлены посредством одного символа, а мы не имели бы предложения.)
Представление <желтый> не является изображением созерцаемого желтого цвета в том смысле, в каком я ношу с собой в бумажнике изображение моего друга. Оно является <изображением> абсолютно в другом, формальном смысле. Я могу сказать: <Представьте себе желтый цвет; теперь дайте ему побелеть, пока он не станет совершенно белым, а теперь превратите его в зеленый>. Я могу с Вашей помощью управлять представлениями, и варьируются они именно таким же образом, что и действительные цветовые впечатления. Я могу выполнять с представлениями все те операции, которые соответствуют действительности. Представление цвета обладает той же кратностью, что и цвет. В этом состоит его связь с действительностью.
Если же я говорю: <Это желтое>, то я могу верифицировать это самыми разными способами. В зависимости от метода, который я допускаю при этом в качестве верификации, предложение получает совершенно различный смысл. Если я беру как средство верификации, например, химическую реакцию, то можно осмысленно сказать: <Это выглядит серым, но в действительности это желтое>. Но если я оставляю значащим в качестве верификации то, чтб я вижу, то более нет смысла в высказывании: <Это выглядит желтым, но оно не желтое>. Теперь я не могу пытаться отыскать признаки того, что это является желтым, ведь это факт сам по себе; я продвинулся до крайней точки, дальше которой продвижение невозможно. Касательно непосредственно данного я не смею делать никаких гипотез.
<Верификация и время>
Как с цветом, так же и со временем. Слово <время> опять-таки означает нечто очень различное: время моего воспоминания, время высказывания другого человека, физическое время.
Мои воспоминания упорядочены. Способ, каким упорядочены воспоминания, это время. Время, следовательно, непосредственно связано с воспоминанием. Время является как бы той формой, в которой я владею воспоминаниями.
Упорядоченность может быть получена и иным способом, например, посредством высказываний, которые делаю я или кто-то другой. Если я, например говорю: <Это событие произошло раньше, а то позже>, то это совсем другая упорядоченность. Оба вида упорядоченности могут быть объединены, когда, например, я говорю о сильном пожаре, рассказы о котором я слышал в детстве. Здесь, так сказать, наслаиваются друг на друга время воспоминания и время высказывания. Еще сложнее дела обстоят с историческими высказываниями и с временем в геологии. В этом случае смысл указания на время полностью зависит от того, что допускается в качестве верификации.
<...>
25 сентября 1930
<РАЗНОЕ>
Кажется, можно сказать, что только настоящее обладает реальностью. Здесь следует спросить: обладает реальностью в противоположность чему? Должно ли это значить, что моя мать не существовала или что я не встал сегодня рано утром? Этого мы подразумевать не можем. Должно ли это значить, что события, которые я сейчас не вспоминаю, не существовали? Тоже нет.
Мгновение настоящего, о котором здесь идет речь, должно означать нечто, что есть не в пространстве, но что само является пространством.
***
<...>
***
Я не считаю, что будет правильным сказать: любое предложение должно быть составным в смысле слов. Что означал бы тот факт, что предложение <ambulo>19 состояло только из корневых слогов? Правильно было бы так: любое предложение есть момент игры в образование знаков по всеобщим правилам.
***
Пожалуй, я могу спросить: <Это был гром или выстрел?> Но не: <Это был шум?> Я могу сказать: <Померь еще раз, это круг или эллипс!> Здесь можно сделать оговорку, что слово <это> означает нечто иное, сообразно с чем предложение будет истинным или ложным.
Ясно, что слово <это> должно иметь постоянное значение, окажется ли предложение истинным или ложным. Если я могу сказать: <Это круг>, то это должно также делать осмысленным предложение: <Это эллипс>.
***
Я запросто могу сказать: <Протри стол!>, но не: <Протри все точки <этого стола>!>
***
Если я говорю: <Стол коричневый>, то качество <коричневый> имеет смысл относить к носителю, к столу. Если я могу представить себе стол коричневым, то я могу представить себе его любой расцветки. Что значит это: <Я могу представить себе один и тот же круг красным или зеленым>? Что именно остается одним и тем же? Форма круга: Но я не могу представить одну лишь форму.
***
<У этого предложения есть смысл> неудачный оборот речи.
<У этого предложения есть смысл> звучит так же, как <У этого человека есть шляпа>.
<Эти знаки обозначают предложение>, то есть мы перемещаем в знаки форму предложения.
Одновременно мы перемещаем в предложение форму действительности. [Ф.В.]
Если я знаю, что эти знаки обозначают предложение, то' могу ли я спросить: <Какое предложение?>
<...>
Среда, 17 декабря 1930 (Нойвальдегг)
РЕЛИГИЯ
Существенна ли для религии речь? Я очень хорошо могу представить себе религию, в которой нет никаких постулатов и в которой, следовательно, не о чем говорить. Сущность религии, очевидно, не должна иметь ничего общего с тем, о чем можно вести речь, или, скорее, так: если нто-то говорится, то это само по себе является составной частью религиозного поступка, а не религиозной теорией. Таким образом, это вовсе не зависит от того, истинны, ложны или бессмысленны слова.
Религиозные речи не являются также сравнением; ибо тогда это должно было бы быть сказано прозой. Атака на границы языка? Но ведь язык не является клеткой.
Я могу сказать лишь: я не смеюсь над этим человеческим стремлением; я снимаю перед ним шляпу. И здесь существенно, что это не социологическое описание, но то, что я говорю это о себе самом.
Факты для меня ничто. Я чувствую сердцем, чтб имеют в виду люди, когда говорят <мир тут>.
Вайсманн спрашивает Витгенштейна. Связано ли присутствие мира с этическим?
Витгенштейн. То, что здесь существует связь, люди чувствуют и выражают это чувство так: Бог-Отец сотворил мир, Бог-Сын (или Слово, которое исходит от Бога) есть Этическое. Что Бога мыслят разделенным, а затем вновь единым, означает существование здесь связи.
<...>
ДОЛЖЕНСТВОВАНИЕ
Что значит слово <должен>? Ребенок должен это делать, если он этого не сделает, последуют такие-то и такие-то неприятности. Возмездие и наказание. Существо дела состоит вот в чем: кто-то принужден нечто сделать. Долженствование, следовательно, имеет смысл, только если за долженствованием стоит что-то, что придает ему силу: власть, которая наказывает и вознаграждает. Долженствование само по себе бессмыслица.
<Проповедовать мораль трудно, обосновать ее невозможно>.
<...>
ИНТЕНЦИЯ, ПОЛАГАНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ
Вайсманн читает предложения:
<Когда ты говорил о Наполеоне думал ли ты одновременно об этом?>
<Я думал о том, чтo я говорил>.
Вайсманн спрашивает Витгенштейна. Значит ли это, что предложение выходит за пределы того, что оно говорит, и затрагивает еще и другие вещи?
Витгенштейн: Я Вам это объясню. В данной работе я снова и снова размышляю над вопросом, что значит понимать предложение. Это связано с общими вопросами, что такое то, что называют интенцией, полаганием, значением. Привычным на сегодняшний день является такое мнение, что понимание есть психологический процесс, который разыгрывается <во мне>. А я спрашиваю: <Является ли понимание процессом, параллельным высказываемому или записываемому предложению?> Тогда какую структуру имеет этот процесс? Каким-то образом ту же самую, что и предложение? Или этот процесс нечто аморфное, подобно тому, как когда я читаю предложение и мучаюсь при этом зубной болью? Я считаю, что понимание вовсе не является особым психологическим процессом, который присоединяется здесь и который проникает в восприятие предложения-картины. Если я слышу какое-нибудь предложение или какое-нибудь предложение читаю, то во мне, разумеется, протекают различные процессы. Всплывает представленная картина, возникают ассоциации и т. д. Но все эти процессы не то, что меня при этом интересует. Я понимаю предложение, когда его применяю. Понимание, следовательно, вовсе не является особым событием, но оно есть оперирование с предложением. Предложение это именно то, как мы им оперируем. (Операцией является также и то, что я делаю). Мнение, от которого в этой связи я хотел бы отмежеваться, таково, что в случае понимания речь идет о состоянии, которое во мне происходит, как, например, в случае зубной боли. Но что понимание ничего не может поделать с состоянием, это лучше всего будет видно, если спросить: <Понимаешь ли ты слово "Наполеон"?> <Да>. <Ты имеешь в виду победителя под Аустерлицем?> <Да>. <Ты имел это в виду все время, без перерыва?> Очевидно, не имеет смысла сказать, что я все время имел это в виду, так как я могу сказать: <У меня все время, беспрерывно болел зуб>. Я могу сказать: <Я осознавал значение слова "Наполеон" точно таким же образом, как я осознаю, что 2 + 2 = 4, а именно не в виде состояния, а в виде диспозиции>. То, что я употребляю претеритум: <Я имел в виду победителя под Аустерлицем>, относится не к самому полаганию (имению в виду), но к тому, что это предложение я высказал раньше. Но это не предполагает того смысла, что в определенный момент времени я понимаю слово <Наполеон>. Поскольку тогда останется возможность спросить: <Когда же я это понял? Уже на первом "Н"? Или только после первого слога? Или только в конце всего слова?> Как ни комично это звучит, все такие вопросы были бы реальны. Понимание слова или предложения это процесс исчисления (?)
Вайсманн. Это употребление слова <исчисление> непривычно.Раньше Вы всегда придавали значение отличию исчисления от теории. Вы говорили: <Что есть различие между исчислением и теорией? Просто то, что теория нечто описывает, а исчисление ничего не описывает, исчисление есть>
Витгенштпейн. Вы не должны забывать, что сейчас я веду речь не о предложениях, а о пользовании знаками. Я говорю: способ, каким мы используем знаки, образует исчисление, и говорю я это с умыслом. А именно: между способом использования наших слов в языке и исчислением нет голой аналогии, но на самом деле я могу разуметь понятие исчисления так, что применение этого слова будет с ним совпадать. Сейчас я поясню, что имею в виду. Здесь у меня бензиновое пятнышко. К чему это меня подталкивает? Ну, к стирке. А если здесь приклеен листок с надписью <бензин>. К чему же подтолкнет меня эта надпись? Ведь я отстирываю бензин, а не надпись. (Ясно, конечно, что вместо этой надписи могла стоять какая-нибудь другая.) Теперь эта надпись является точкой приложения для исчисления, то есть для своего применения. То есть я могу сказать: <Принесите бензин!> И посредством этой надписи наличествует правило, в соответствие с которым Вы можете действовать. Если Вы принесли бензин, то это означает очередной шаг в том же самом исчислении, которое определено через правила. Все это я называю исчислением, поскольку здесь есть две возможности, а именно, что Вы действуете по правилу, или что Вы действуете не по правилу; ибо теперь я в положении, когда могу сказать: <Вот то, что Вы принесли, отнюдь не было бензином!>
Названия, которые мы употребляем в повседневной жизни, это всегда такие таблички, которые мы навешиваем на вещи и которые служат нам точкой приложения исчисления. Я могу, например, повесить на себя табличку со словом <Витгенштейн>, на Вас с надписью <Вайсманн>. Но вместо этого я могу сделать также и нечто другое: я укажу своей рукой по очереди туда и сюда и скажу: господин Мюллер, господин Вайсманн, господин Майер. Тем самым я вновь обрел точку приложения для исчисления. Я могу, например, сказать: <Господин Вайсманн, идите во Фруктовый переулок!> Что это значит? Там снова висит табличка с надписью <Фруктовый переулок>. Только с ее помощью я могу определить, правильно ли то, что Вы делаете, или нет.
Вайсманн. Значение слова это способ его употребления. Если я даю вещи название, то я не устанавливаю тем самым никакой ассоциации между вещью и словом, но указываю на правило для употребления этого слова. Так называемое <интенциональное отношение> в таких правилах исчезает. На самом деле здесь нет никакого отношения, и когда о нем говорят это всего лишь неудачный оборот речи.
Витгенштейн. И да, и нет. Это сложная вещь. По-видимому, в определенном смысле можно сказать, что такое отношение существует. А именно: это отношение точно такого же вида, что и отношение между двумя знаками, которые стоят рядом в таблице. Например, я указываю рукой на Вас и на себя и говорю: <Господин Вайсманн, господин Витгенштейн>. (?)
Ведь я также мог бы использовать исчисление, в котором <господин Майер> и <господин Вайсманн> перепутаны, и подобно <3+ 5> и <15> перепутаны <Фруктовый переулок> и <Площадь Стефана>
То, что я делаю со словами языка (когда их понимаю), есть в точности то же, что я делаю со знаками в исчислении: я ими оперирую. Ведь в том, что в одном случае я совершаю действие, а в другом только пишу или стираю знаки, нет никакой разницы; поскольку и то, что я делаю при исчислении, есть действие. Здесь нет четкой границы.
<...>
<ИСЧИСЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ>
В чем состоит различие между языком (М) 21 и игрой? Можно было бы сказать так: игра заканчивается там, где начинается серьезность, а серьезность это применение. Но это было бы еще не совсем правильное высказывание. Собственно говоря, можно сказать: игра есть то, что не является ни чем-то серьезным, ни шуткой: поскольку мы говорим о серьезном, когда мы используем результаты исчисления в повседневной жизни. Я, например, тысячи раз применяю в повседневной жизни вычисление 8 х 7 = 56, а потому для нас это всерьез. Но ведь процедура умножения сама по себе и для себя ничуть не отличается от той процедуры, которую я совершаю исключительно ради удовольствия. В самом по себе вычислении не заложено различий, и, следовательно, по исчислению нельзя увидеть, используется ли оно нами всерьез или для собственного удовольствия. Поэтому я не могу сказать: <Исчисление игра, если оно мне нравится>, но только: <Исчисление игра, если я смогу так истолковать его, что оно мне понравится>. В самом исчислении не заложено отношения ни к серьезности, ни к развлечению.
Вспомним об игре в шахматы! Сегодня мы называем это игрой. Но предположим, война велась бы так, что войска сражались бы друг
с другом на луту, оформленном как шахматная доска, и тот, кому поставили мат, проиграл войну. Тогда офицеры склонялись бы над шахматной доской также, как сегодня склоняются над картой генерального штаба. И тогда шахматы уже не были бы игрой, но чем-то серьезным.
<...>
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ
Если один раз я докажу, что уравнение и-ной степени должно иметь и решений, применив для этого, например, одно из гауссовских доказательств, и если в другой раз я буду доказывать существование посредством того, что укажу на способ построения решений, то я не дам два разных доказательства для одного и того же предложения, но докажу совершенно разные вещи. Что является общим, так это лишь то прозаическое предложение: <Имеется и решений>, которое, однако, взятое само по себе, вообще ничего не означает, но служит лишь для сокращения доказательства. Если доказательства различны, то каждое предложение означает именно различное. То, что в обоих случаях говорят о <существовании>, имеет свою причину в том, что доказательство существования решений демонстрирует некое родство со способом построения решений. Но само по себе слово <имеется> в этой связи вовсе нельзя понять так, как мы понимаем его в обыденной жизни, когда я говорю, к примеру: <В этой комнате находится человек>.
Доказательство доказывает только то, что оно доказывает, и ни
чего сверх того.
<...>
Среда, 9 декабря 1931 года (Нойвальдегг)
О ДОГМАТИЗМЕ
В догматическом изложении можно, во-первых, увидеть тот недостаток, что оно в известной степени высокомерно. Но это еще не самое дурное. Много опаснее другое заблуждение, насквозь проникающее всю мою книгу: такое понимание, будто есть вопросы, на которые однажды будут найдены ответы. Xотя и не имеют результата, но думают, будто знают путь, на котором его можно получить. Так, я, например, верил, что задачей логического анализа является поиск элементарных предложений. Я писал: о форме элементарных предложений нельзя дать никаких указаний 22, и я был абсолютно прав. Мне было ясно, что, во всяком случае, в этом, нет никакой гипотезы, и что в этих вопросах нельзя поступать так, как это делал Карнап, заранее предполагая, что элементарные предложения должны состоять из двуместного отношения, еtс. Тем не менее я все же считал, что когда-нибудь в будущем элементарные предложения могут быть конкретизированы. Только в последние годы я отошел от этого заблуждения. Когда-то в рукописи своей книги я написал (это не вошло в Трактат): <Решения философских вопросов никогда не должны поражать воображение>. В философии ничего нельзя .открыть. Но для меня самого это не было еще достаточно ясным и даже наоборот я сам был грешен в чем-то подобном.
Ложное понимание, которое я хотел бы в этой связи обсудить, заключается в том, будто мы можем прийти к чему-то, сегодня мы еще не видим, и будто мы можем найти нечто совершенно новое. Это ошибка. На самом деле, мы уже все имеем, и имеем именно в настоящем, мы не нуждаемся ни в каких ожиданиях. Мы вращаемся в сфере грамматики обыденного, и эта грамматика уже тут. Таким образом, мы уже все имеем и совсем не нуждаемся в ожидании будущего.
В том, что касается Ваших тезисов, я как-то писал: <Если имеются философские тезисы, то это не может дать повода ни к каким дискуссиям>. Вы должны будете сочинять именно так, чтобы любой сказал: да, да, это само собой разумеется. Пока по одному вопросу существуют разные мнения и споры это признаки того, что мысли выражаются все еще недостаточно ясно. Когда достигнут абсолютно прозрачных формулировок, последней ясности, больше не будет, ни размышлений, ни возражений; ведь они всегда Возникают из чувства: сейчас нечто утверждается, и я еще не знаю, должен ли я с этим согласиться или нет. Если же, наоборот, сделать грамматику ясной, а здесь продвигаются маленькими шажками, причем каждый отдельный шаг совершенно самостоятелен, то никакая дискуссия вообще не произойдет. Спор всегда возникает от того, что либо проскакивают несколько определенных шагов, либо неточно выражаются, следовательно, это лишь видимость спора, когда выдвигают тезис, о котором можно спорить. Однажды я написал: <Единственно верный метод философствования состоит в том, чтобы ничего не говорить и предоставлять другому делать утверждения> 23. Того же мнения я придерживаюсь и теперь. Что не может другой, так это постепенно и в правильной последовательности изложить правила так, чтобы все вопросы отпали сами собой.
Вот что я имею в виду: когда мы, например, говорим об отрицании, речь идет о том, чтобы задать правило <~ р=p>. Я ничего не утверждаю. Я только говорю: <Грамматика "~" устроена так, что "~" может быть заменено на "р". Употребляешь ли ты слово <не> таким же образом? Если ты согласен, то все в порядке. Следовательно, так и обстоят дела в грамматике вообще. Мы не можем делать ничего другого, как только задавать правила. Если с помощью опроса я установлю, что кто-то принимает для одного слова то те, то эти правила, я ему скажу: <Ты должен тщательно различать, как ты используешь это слово>; и больше я ничего не хочу сказать.
<..>
--------------------
1 Waismann F. Wittgenstein und der Wiener Kreis. Aus dem Nachlab herausgegeben von B.F.McGuinness. Basil Blackwell, Oxford, 1967, S. 45 - 50, 53 - 55, 63 - 69, 84 - 89, 92 - 93, 97 - 98, 107 - 108, 166 - 170, 182 - 184. Публикуемый текст представляет собой избранные фрагменты записей бесед Витгенштейна с членами Венского кружка, зафиксированных Фридрихом Вайсманном. Перевод В, В. Анашвили. Прим. ред.
2 Язык уже полностью упорядочен. Трудность состоит лишь в том, чтобы сделать синтаксис простым и наглядным.
3 В слове <сладкий> еще не заключено никакого числа. Я могу сказать: <Один чай слаще, чем другой>. Но в этом высказывании я не думаю о числе.
4 Социалист К. Зейтц был бургомистром Вены с 1925 по 1934 гг.
5 Когда А имеет зубную боль, он может сказать: <Теперь болит зубз, и это окончание верификации. Но В должен сказать: <А имеет зубную боль>, и это предложение еще не конец верификации. Здесь есть точка, где четко выявляется особое положение различных языков.
6 <Логико-философский трактат> (ЛФТ), афоризмы 2.1512 2.15121.
7 Имеется в виду <Логико-философский трактат>.
8 См. афоризмы 2.062, 4.211, 5.1314 5.135 (ЛФТ).
9. Вероятно, имеется в виду не У. Гамильтон, а другой шотландский философ и психолог А. Бэн (1818 - 1903).
- Дополнение. Понедельник, 30 декабря 1929.
Я был неправ, когда так излагал эти вещи. Ничего нельзя сказать ни в случае, когда человек знает только красное, ни в случае, когда ему известны различные нюансы цвета. Я хочу дать простой контрпример, который весьма стар: как быть с числом черточек, которые я вижу? Я мог бы сделать также следующее заключение: когда я вижу 1, 2, 3, 4, 5 черточек, и эти видимые черточки имеют тот же синтаксис, что и черточки посчитанные, тогда я должен иметь возможность видеть неограниченно много черточек. Но этого не происходит.
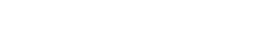
Пожалуй, я могу зрительно отличить 2 черточки от 3, но не 100 от 101. Здесь имеют место две различные верификации: одна когда я вижу, другая когда я считаю. Одна система обладает многообразием, отличным от многообразия другой системы. Система зрения гласит: 1, 2, 3, 4, 5, много.
- <Мистическое это чувство мира как ограниченного целого> логико-философский трактат, 6.45]. <Для меня ничето не может произойти>, т. е. то, что все может произойти, не имеет для меня значения. [Лекция об этике].
- Витгенштейн указывает на позицию Д. Э. Мура в <Принципах этики> (1903), подчеркивавшего неопределимость понятия <добро>.
- Это парафраз цитаты из "Исповеди" (кн. 1, 1Ч).
14 Для того чтобы понять смысл предложения <Азалия не синяя>, мне не нужно иметь возможность представлять другие цвета. И если я себе нечто представляю, то это еще не означает, что я понимаю смысл предложения.
Для того чтобы понять слова <синий>, <красный>, ..., мне не нужно каким-то образом галлюцинировать этот цвет. <...> Я должен лишь понимать смысл высказывания, в котором эти слова имеют место.
15. В так называемых <Заметках по логике> (1913).
16 Ибо, если я нажму на кнопку, а колокольчик не зазвенит, то ~ не буду знать, в каком направлении продолжать, чтобы достичь нужной кнопки. В то же время нельзя сказать, будто у меня нет идеи, где находится нужный цвет. Есть нечто, что я знаю о нем, а именно, способ его достижения.
17 Значение слова состоит не в том, что я могу вообразить себе его содержание (наглядно представить, галлюцинировать), но в том, что я знаю путь, как достичь предмета.
18 <Мир красен> если я могу высказать это с помощью предложения. тогда может быть отрицаемо и само высказывание, и тогда предложение находится в некотором пространстве. Если это нельзя описать с помощью высказывания, тогда я даже не могу спросить, предполагает ли красный цвет систему цветов.
[Все, что есть, может быть иным. И наоборот есть только то, что может быть иным.)
Знак (слово) обладает значением только в предложении. Если я не в состоянии образовать фразу <все, что я вижу, является красным>, то слово <красный> не обладает значением.
Если слово <красный> вообще обладает значением, то это уже предполагает систему цветов.
19 Ambulo - прогуливаюсь (лат.) Прим. перев.
20 Витгенштейн критикует собственное утверждение в <ЛФТ>, афоризм 4.032.
21 Речь идет о математики.
22 См. <ЛФТ>, афоризм 5.55.
23 Приблизительное цитирование (<ЛФТ>, афоризм 6.59).